Слово за словом. Тонкости перевода восточноазиатской поэзии
Автор: Виктория Посохова
Перевод поэзии — это не просто процесс замены одних слов на другие. Это искусство, требующее глубокого понимания культуры, эмоций и традиций, заложенных в оригинальном тексте. А когда речь заходит о переводе с корейского, китайского или японского, процесс становится особенно сложным. Каждый из этих языков обладает своей уникальной системой символов, ритмов и образов, которые важно сохранить. В этой статье мы обратимся к трем регионоведам НГТУ, которые поделятся своими переводами и прокомментируют их.
«Весна в объятиях зимы», Пэк Вондаль (перевод Лэи Ковальской)
— Меня зовут Лэя Ковальская, я студентка 3 курса направления «Зарубежное регионоведение». Тут я изучаю корейский язык и культуру, в том числе занимаюсь переводами. Вот один из них – стихотворение Пэк Вондаля «Весна в объятиях зимы».
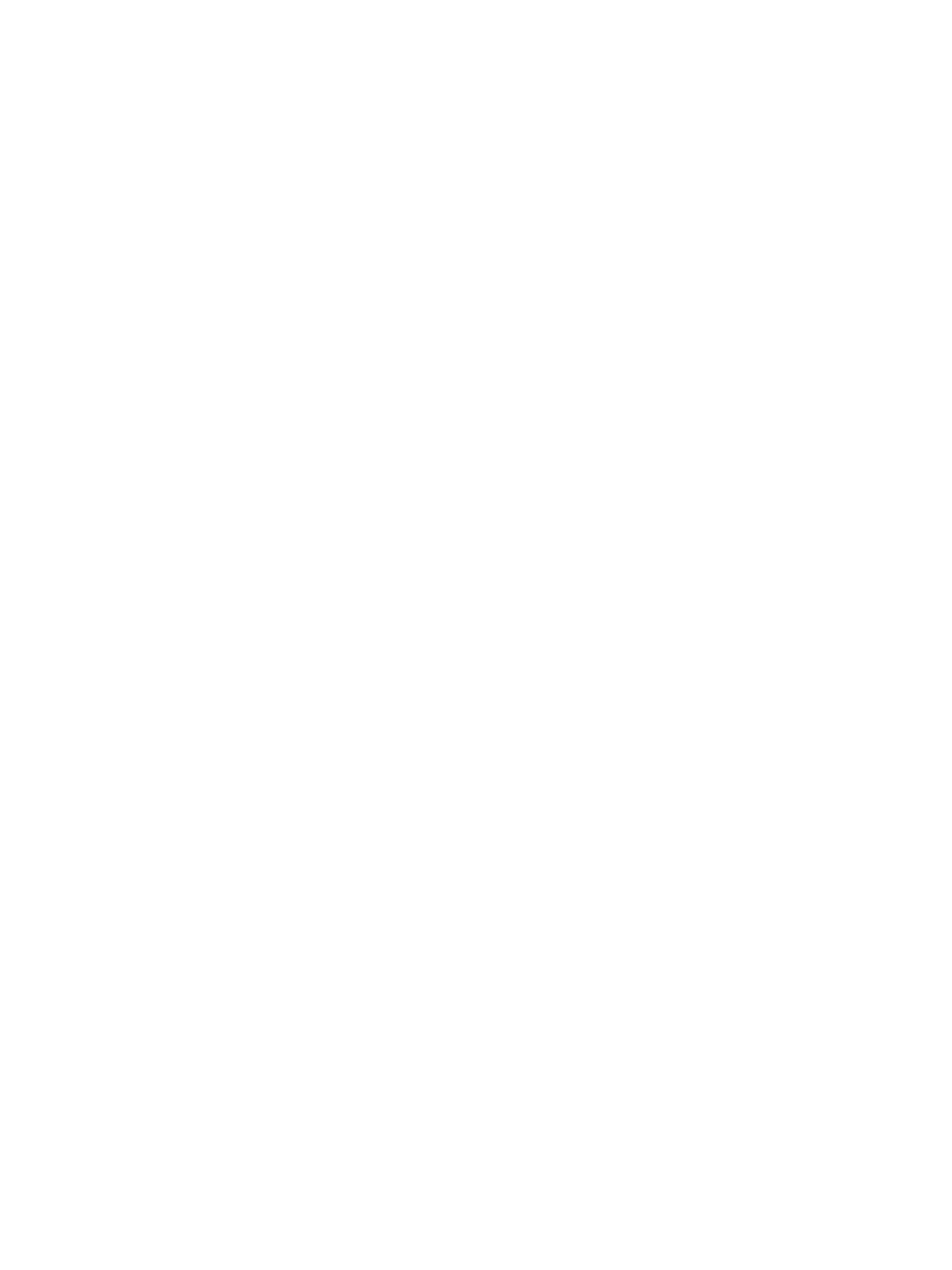
Снежные хлопья, как звезды сверкая,
С неба летят и ложатся у ног,
Строя холмы и мой путь покрывая,
Точно в барханах Сахары песок.
По снегу бреду, вспоминая невольно:
Держали к колодцу путь Маленький принц
И друг его — лётчик с душою ребёнка,
Не видели неба ночного границ.
Вместе под снегом, вместе с тобою —
Вот утешение для жизни моей.
Больше, чем если я зонтик раскрою,
Рядом с тобой в снегопад мне теплей.
Белые хлопья, на щеки спустившись,
Таят и каплями катятся вниз.
Падают снова и, остановившись,
Тихо блестят меж дрожащих ресниц.
«Слёзы» — приходит на ум сам собою,
Но отчего они так горячи?
И наша жизнь так прекрасна порою?
Словно весна, что в объятиях зимы...
С неба летят и ложатся у ног,
Строя холмы и мой путь покрывая,
Точно в барханах Сахары песок.
По снегу бреду, вспоминая невольно:
Держали к колодцу путь Маленький принц
И друг его — лётчик с душою ребёнка,
Не видели неба ночного границ.
Вместе под снегом, вместе с тобою —
Вот утешение для жизни моей.
Больше, чем если я зонтик раскрою,
Рядом с тобой в снегопад мне теплей.
Белые хлопья, на щеки спустившись,
Таят и каплями катятся вниз.
Падают снова и, остановившись,
Тихо блестят меж дрожащих ресниц.
«Слёзы» — приходит на ум сам собою,
Но отчего они так горячи?
И наша жизнь так прекрасна порою?
Словно весна, что в объятиях зимы...
Восточная поэзия серьёзно отличается от западной. В ней нет привычных нам размеров и рифм, она подчиняется самобытным законам. Многие авторы в своём переводе сохраняют эти поэтические особенности, тогда получаются такие «белые стихи», более приближенные к оригиналу по форме.
Сложности перевода вызывает многозначность корейской лексики. Например, это стихотворение построено на игре слов и выражений, содержащих 눈 (нун) – это одновременно и снег, и глаза, а связка 눈을 맞다 (нуныль матта) может означать «находиться под снегом, попасть под снег», «встретиться глазами» и «влюбиться друг в друга». Передать такое в переводе, конечно, очень сложно, и в полной мере оценить очарование стихотворения можно только читая оригинальный вариант.
В корейском варианте одно из художественных средств – повторы. Они позволяют акцентировать внимание на самом важном и вместе с этим создают ощущение, словно мы в моменте следуем за мыслями автора. Такую же роль выполняют риторические вопросы – элемент размышления делает текст живым.
Это стихотворение о нежных чувствах между двумя людьми, которые находят утешение друг в друге. Снежинки становятся тёплыми слезами, потому что так приходит очищение после преодоления трудностей. Метафору в названии «Зима обнимает весну» можно трактовать по-разному, но слово «объятия» указывает, что зима здесь – не отрицательная сторона. Характерное для Востока стремление к гармонии. Это переходный момент ранней весной, когда природа уже начинает преображаться – солнце светит ярче, ветер становится более ласковым, стучит капель и начинает таять снег, – но ещё не успела потерять зимних украшений. Так и в отношениях между людьми: момент, когда они ещё не близки, но «лёд тронулся», и тепло и нежность согревает их, как снежинки на щеках, превращающиеся в слезы.
Сложности перевода вызывает многозначность корейской лексики. Например, это стихотворение построено на игре слов и выражений, содержащих 눈 (нун) – это одновременно и снег, и глаза, а связка 눈을 맞다 (нуныль матта) может означать «находиться под снегом, попасть под снег», «встретиться глазами» и «влюбиться друг в друга». Передать такое в переводе, конечно, очень сложно, и в полной мере оценить очарование стихотворения можно только читая оригинальный вариант.
В корейском варианте одно из художественных средств – повторы. Они позволяют акцентировать внимание на самом важном и вместе с этим создают ощущение, словно мы в моменте следуем за мыслями автора. Такую же роль выполняют риторические вопросы – элемент размышления делает текст живым.
Это стихотворение о нежных чувствах между двумя людьми, которые находят утешение друг в друге. Снежинки становятся тёплыми слезами, потому что так приходит очищение после преодоления трудностей. Метафору в названии «Зима обнимает весну» можно трактовать по-разному, но слово «объятия» указывает, что зима здесь – не отрицательная сторона. Характерное для Востока стремление к гармонии. Это переходный момент ранней весной, когда природа уже начинает преображаться – солнце светит ярче, ветер становится более ласковым, стучит капель и начинает таять снег, – но ещё не успела потерять зимних украшений. Так и в отношениях между людьми: момент, когда они ещё не близки, но «лёд тронулся», и тепло и нежность согревает их, как снежинки на щеках, превращающиеся в слезы.
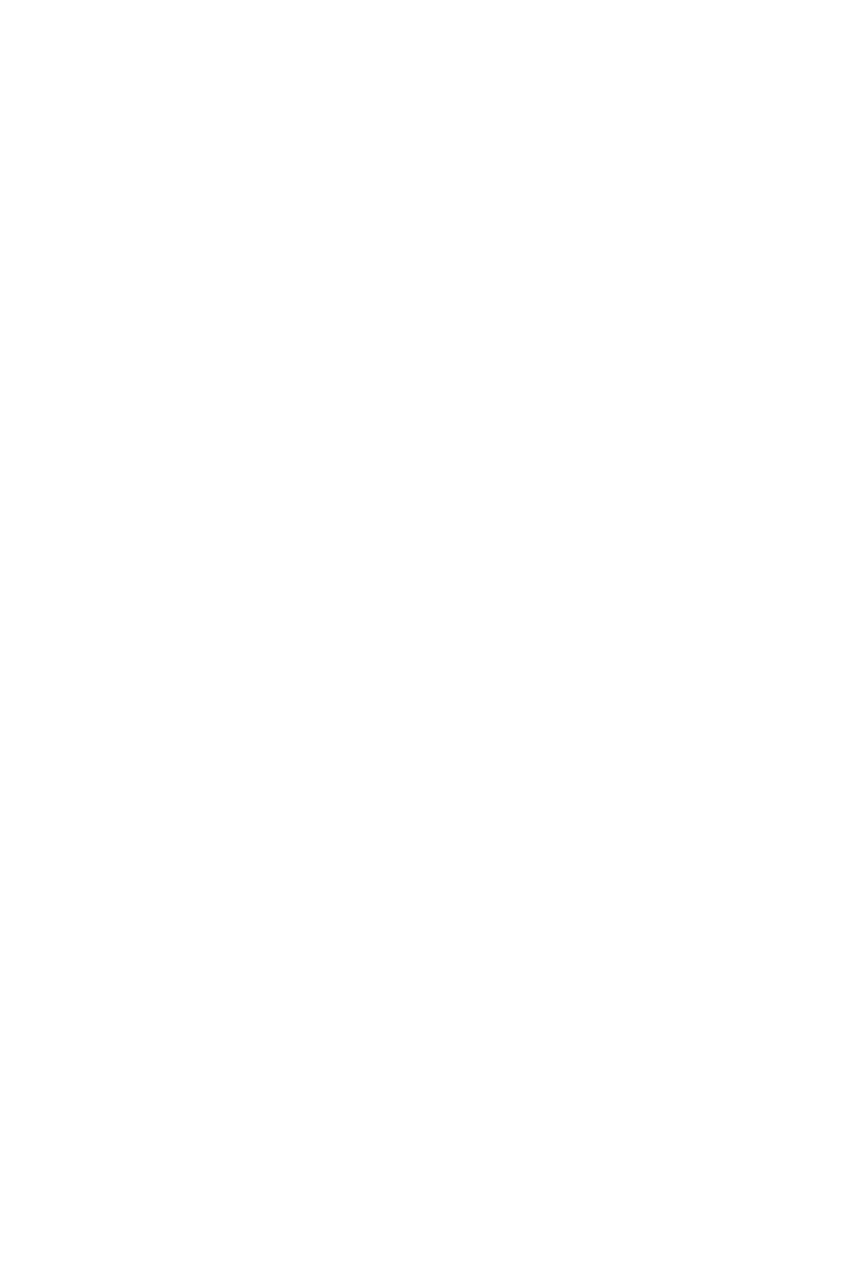
«Летящий орел», Кобо Абэ (перевод Дарьи Какориной)
— Меня зовут Дарья. Я учусь в НГТУ на 4 курсе на кафедре международных отношений и регионоведения и изучаю японский язык.
Однажды я переводила стихотворение «Летящий орел» (飛ぶ鷲), написаное японским поэтом и писателем Kōbō Abe. Он известен своими произведениями, которые исследуют темы идентичности, экзистенциализма и человеческого существования.
Вновь я поднял свой взгляд к небесам.
А вверху лишь кристальная синь.
И мне кажется, что где-то там
Край вселенной сияет один.
Ничего не тревожит ее,
Эту тихую синюю гладь.
Даже облачка, ни одного
За сто миль далеко не видать.
Засмотревшись на эту картину,
Я подумал: «Действительно ли,
Наше небо настолько синее,
Или люди все выдумали?»
Небосвод – он такой многогранный,
Но не каждый признать то готов,
В синеве той глубокой, печальной,
Сочетанье десятка цветов:
Золотой, фиолетовый, красный.
Как картина на синем холсте.
Этот вид несомненно прекрасный,
Или это лишь кажется мне?
Вдруг заметил, что где-то вдали
Вниз летит небольшое пятно.
И чем ближе ему до земли,
Тем все больше и больше оно.
Два крыла, что несут его в танце,
То кружась, то паря в вышине,
Рассекают пустое пространство.
Это ангел спустился ко мне?
Нет, лишь коварная птица,
Что кружит в голубой пустоте.
Свежей крови хочет напиться,
Потому прилетел и ко мне.
Ну, а я – просто лишь наблюдатель,
Что лежит на скалистой земле.
И я жив, тому есть показатель -
Только острая боль в голове.
А вверху лишь кристальная синь.
И мне кажется, что где-то там
Край вселенной сияет один.
Ничего не тревожит ее,
Эту тихую синюю гладь.
Даже облачка, ни одного
За сто миль далеко не видать.
Засмотревшись на эту картину,
Я подумал: «Действительно ли,
Наше небо настолько синее,
Или люди все выдумали?»
Небосвод – он такой многогранный,
Но не каждый признать то готов,
В синеве той глубокой, печальной,
Сочетанье десятка цветов:
Золотой, фиолетовый, красный.
Как картина на синем холсте.
Этот вид несомненно прекрасный,
Или это лишь кажется мне?
Вдруг заметил, что где-то вдали
Вниз летит небольшое пятно.
И чем ближе ему до земли,
Тем все больше и больше оно.
Два крыла, что несут его в танце,
То кружась, то паря в вышине,
Рассекают пустое пространство.
Это ангел спустился ко мне?
Нет, лишь коварная птица,
Что кружит в голубой пустоте.
Свежей крови хочет напиться,
Потому прилетел и ко мне.
Ну, а я – просто лишь наблюдатель,
Что лежит на скалистой земле.
И я жив, тому есть показатель -
Только острая боль в голове.
Первое, что бросается в глаза, — это описание цвета неба. Автор начинает с ясного «青い» (голубого), но далее описание становится более сложным и многозначным. Небо может казаться как просто голубым, так и фиолетовым, даже красным. Это создает эффект многослойности восприятия. Здесь можно увидеть параллели с изменчивостью человеческих эмоций: то, что кажется одному, может выглядеть совершенно иначе для другого. Тема пустоты также заметна в описании окружающего пространства. «空以外には、何も見えない» («ничего не тревожит ее, эту тихую синюю гладь») акцентирует внимание на отсутствии чего-либо значительного вне небесного пространства. Пустота не пугает, а становится местом для размышлений. Постепенное появление черной точки, которая оказывается птицей, придаёт тексту динамику и символизм. Птица, особенно в контексте японской культуры, часто представляет свободу и духовность, божественный взгляд на мир. Чтобы донести этот смысл до русского читателя, я добавила строчку про Ангела («Это ангел спустился ко мне?»). «ハゲフシ» («коварная птица»), на мой взгляд, символизирует возможность выхода за пределы текущей реальности или даже близость кончины. Автор смотрит на птицу с земли, что может отразить его собственные стремления: может быть, он хотел бы так же взмыть в небо, но это невозможно.
«Чайки», Сигэру Накадзава (перевод Ангелины Масляк)
— Меня зовут Ангелина Масляк, я учусь на 3 курсе на кафедре международного регионоведения, учу китайский язык. Перед поступлением я очень долго думала, выбирая между тремя языками, но все же остановилась на нём, так как посчитала его более близким к себе. Я работала над переводом стихотворения Сигэру Накадзавы «Чайка».
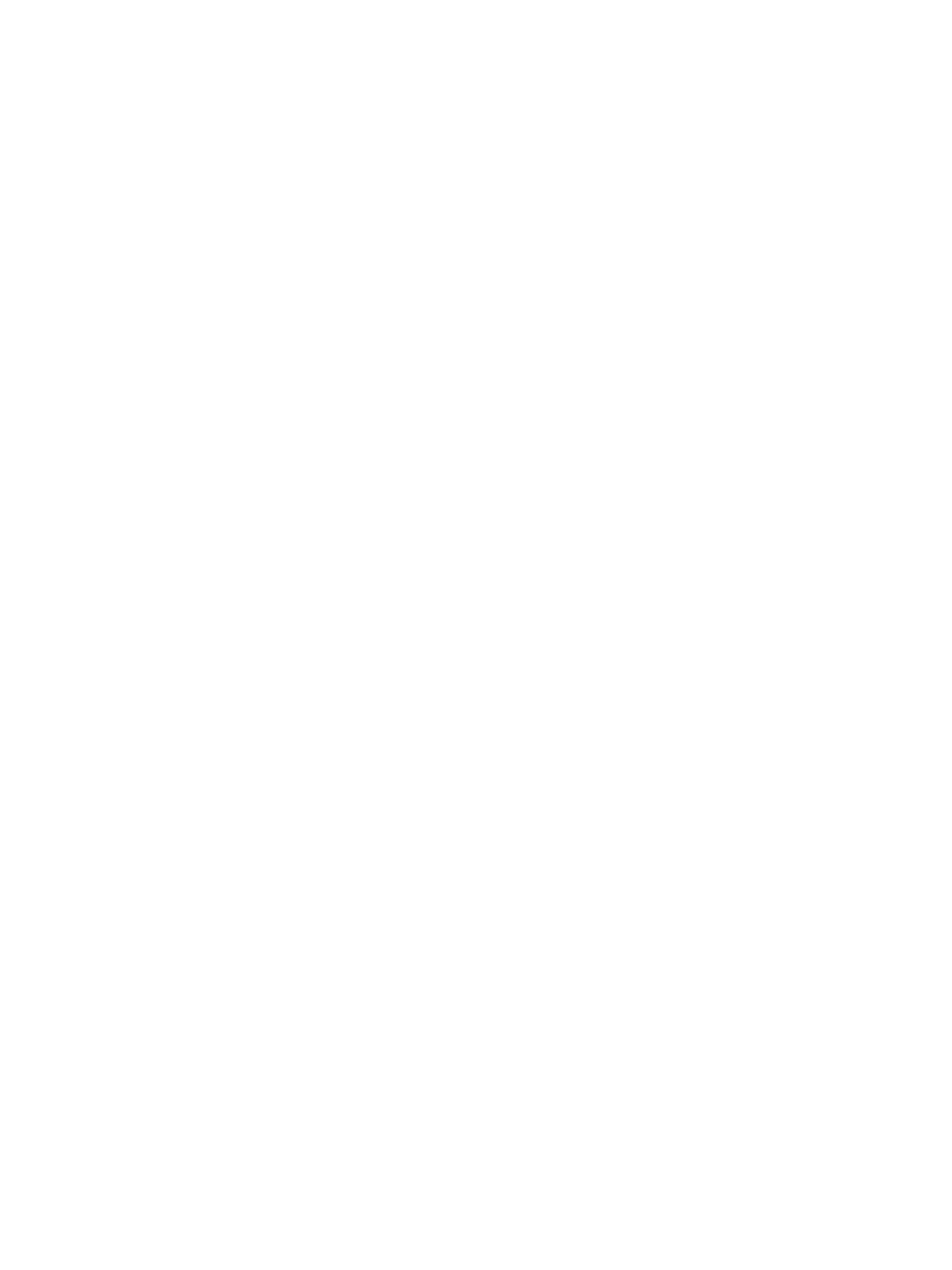
Окрашена спокойствием водорослей,
Подушка дюны дневной.
Светлые крылья рассекают гребни волны,
Как непринужденна белая чайка!
Внезапно она у кромки воды средь белой пены ищет еду,
И вдруг остановилась у ног моих, крылья сложив.
Я раскрыл руки и взвыл,
Чайка не улетела, и даже не закричала.
Она шагает по сырому песку,
Смеясь нахлынувшим волнам.
Ее глаза округлились,
Синева моря мерцала в зрачках.
Вот священный сосуд,
Источник света, олицетворяющий тысячу жемчужин.
Ты называешь необъятное море домом своим,
Море снова песня твоя.
Пока плывешь ты на крыльях,
Покажи смелость свою;
Ведь, куда бы ты не пойди, везде солнце будет сиять,
Средь подозрений, ужаса, презрений и оскорблений…
Все тени презренные ускользнут прочь;
А небо голубо, да земля чиста.
Подушка дюны дневной.
Светлые крылья рассекают гребни волны,
Как непринужденна белая чайка!
Внезапно она у кромки воды средь белой пены ищет еду,
И вдруг остановилась у ног моих, крылья сложив.
Я раскрыл руки и взвыл,
Чайка не улетела, и даже не закричала.
Она шагает по сырому песку,
Смеясь нахлынувшим волнам.
Ее глаза округлились,
Синева моря мерцала в зрачках.
Вот священный сосуд,
Источник света, олицетворяющий тысячу жемчужин.
Ты называешь необъятное море домом своим,
Море снова песня твоя.
Пока плывешь ты на крыльях,
Покажи смелость свою;
Ведь, куда бы ты не пойди, везде солнце будет сиять,
Средь подозрений, ужаса, презрений и оскорблений…
Все тени презренные ускользнут прочь;
А небо голубо, да земля чиста.
Сам по себе китайский язык имеет много тонкостей, о которых стоит помнить. Например, нельзя забывать об устойчивых выражениях, о различии литературного и устного языка, о вэньяне. Каждый человек понимает стихи по-своему, и лично для меня это стихотворение – передача необъятных чувств и восхищения не только природой, но и умением пройти через трудности, оставаясь самим собой, помня о хрупкости и величии нашей природы.
На протяжении веков поэты использовали языковые игры, метафоры и аллюзии, что требует от переводчика не только лексического, но и культурного и художественного мастерства. В конечном итоге, именно это служит важным инструментом для культурного обмена и взаимопонимания, способствуя более глубокому диалогу между различными языками.
На протяжении веков поэты использовали языковые игры, метафоры и аллюзии, что требует от переводчика не только лексического, но и культурного и художественного мастерства. В конечном итоге, именно это служит важным инструментом для культурного обмена и взаимопонимания, способствуя более глубокому диалогу между различными языками.
